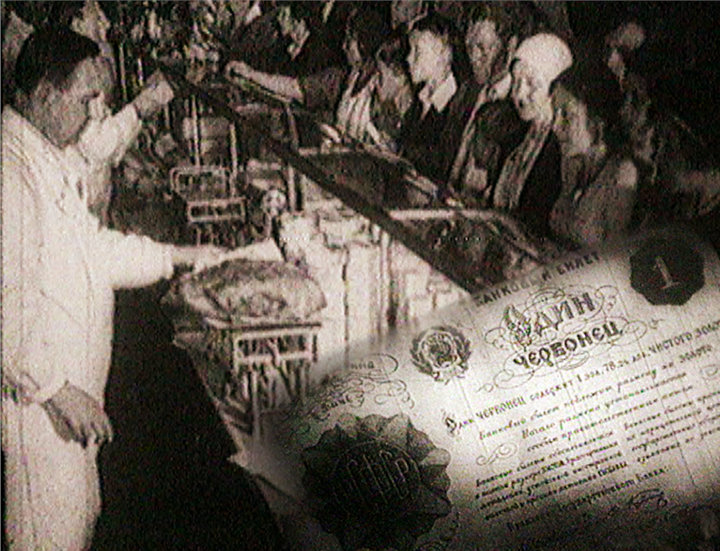Успех новой экономической политики парадоксальным образом стал предпосылкой к завершению этого эксперимента: как и планировалось, нэпманы должны были помочь восстановить социалистическую промышленность и затем исчезнуть как класс. С середины 1920-х годов берется курс на постепенное свертывание нэпа. Как происходил возврат к социалистическим идеалам, рассказывает в сто двадцать третьем материале своего тематического цикла юрист, кандидат исторических наук, депутат Государственной Думы первого созыва Александр Минжуренко.
Новая экономическая политика привела к возрождению как сельского хозяйства, так и промышленности, и торговли. Оказалось, что у части населения после нескольких лет экспроприации и конфискации имущества, золота и денег все же оставались средства, достаточные для того, чтобы стать стартовым капиталом для аренды национализированных предприятий и открытия новых производств и торговых заведений.
Уже к середине 1920-х годов на долю частного сектора приходилось 20% выпускаемой промышленной продукции. Но особенно заметным стало участие частного капитала в торговле. На долю нового социального слоя – «нэпманов» - приходилось до 80% розничной торговли. Строго централизованная, бюрократизированная и, в силу этого, негибкая государственная торговля оказалась неконкурентоспособной по сравнению с частными магазинами и лавками.
Частные предприятий и в промышленности показали более высокие темпы роста, чем казенные заводы и фабрики. За первые пять лет нэпа индекс промышленного производства увеличился более, чем в три раза. А среднегодовой прирост национального дохода с 1921 по 1928 гг. возрос до 18%.
Но для восстановления промышленности понадобилось и привлечение иностранных инвестиций. Для этого государство использовало институт концессий.
Концессионное соглашение – это договор, заключавшийся государством с иностранной фирмой или отдельным предпринимателем на определенный срок, который давал право на эксплуатацию государственных промышленных предприятий. Обычно в концессию передавались предприятия тех отраслей, где требовалось применение новейшей передовой техники, где нужны были квалифицированные кадры рабочих и подготовленный инженерно-технический персонал.
На предложения концессий наиболее активно отозвались предприниматели США, Великобритании и Германии. Как пример часто приводят концессионера Арманда Хаммера, который владел концессией на асбестовый рудник сроком на 20 лет и концессией на производство карандашей, перьев и других письменных принадлежностей. Английская фирма «Лена Голдфилдс» организовала концессию по добыче золота на реке Лена. А немецкий концерн «Ф. Крупп» взял в концессию сельскохозяйственное предприятие «Маныч» в Ростовской области площадью в 50 тыс. десятин на 8 сезонов. По этому договору концессионер обязался сдавать Советскому государству ежегодно 20% валового сбора урожая.
Однако, хотя правительство СССР готово было предоставить для сдачи в концессии большой список предприятий, они не получили широкого распространения. Зарубежные капиталисты, памятуя о национализации в России всех предприятий, принадлежащих иностранцам, в 1917 году остерегались снова вкладывать сюда свои деньги. В итоге доля концессий в общем промышленном производстве в 1920–1930-е гг. составляла всего 1–1,5%.
Несмотря на успехи нэпа в городской промышленности, несмотря на значительный вклад «нэпманов» в восстановление народного хозяйства, государство уже на пике роста экономики начинает ограничивать и вытеснять частный капитал. Это заставляла делать основная доктрина Коммунистической партии, имевшая целью построение социализма, т.е. принципиально нового общества без частной собственности на средства производства и без «эксплуатации человека человеком».
С середины 1920-х годов ситуация начинает меняться. Основным собственником средств производства по-прежнему оставалось государство. Частник же мог только временно извлекать прибыль из государственной собственности, арендуя казенные предприятия.
Крупные и большинство средних промышленных предприятий в энергетике, нефтедобыче, оборонной промышленности, а также железные дороги были в руках государства. Однако и на эту часть экономики оказывали свое влияние рыночные условия нэпа. Так, государственные предприятия были переведены на хозрасчет, т.е. они действовали по плану, спускаемому сверху от госорганов, но работали по принципу самоокупаемости и самоуправления. Существовали они только за счет доходов от реализации своей продукции.
Основной формой реализации принципа хозрасчета были тресты – объединения нескольких предприятий одной отрасли. Они не получали государственного финансирования, но платили налоги, а оставшуюся прибыль делили между своими работниками. Тресты самостоятельно решали, что будут производить и как развивать производство. Но в то же время при правительстве РСФСР с 1923 года уже действовал Госплан, который осуществлял функции управления всей экономикой. Госплан России позднее становится общесоюзным органом.
Таким образом, на этом отрезке времени в стране сложилась многоукладная экономика, в которой были и частные предприятия, и кооперативные организации, и государственные предприятия, и концессии, и мелкотоварные производители. Сложился своеобразный компромисс, заключавшийся в том, что административные методы сосуществовали с товарно-денежными отношениями.
Однако новая экономическая политика была задумана как временная мера. 27 декабря 1929 года в речи на конференции историков-марксистов Сталин заявил: «Если мы придерживаемся НЭП, это потому, что она служит делу социализма. А когда она перестанет служить делу социализма, мы новую экономическую политику отбросим к чёрту».
В отличие от динамичной кампании по ликвидации мелкой буржуазии в деревне, свертывание нэпа в городе происходило более медленно и менее драматично. Никакого правового акта о завершении новой экономической политики не было выпущено.
В промышленности и торговле, действительно, происходило относительно медленное «вытеснение» частного капитала. Чаще всего это делалось через повышение налогового бремени для конкретных предприятий и торговых заведений. Если частник справлялся с выплатой налогов в срок, то ему на следующий год значительно повышали размер налога. И так делалось до тех пор, пока частное предприятие переставало быть рентабельным. Затем за неуплату налогов его передавали в собственность государству. Кроме этого, практиковались и акты конфискации и национализации частных фирм под различными предлогами.
В научной литературе по истории государства и права России принято считать, что юридически нэп в городе заканчивается с выходом правительственного постановления № 848 от 11 октября 1931.г. Но в нем нет буквального запрета на частное предпринимательство.
Документ называется «Об организации и составе Комитета цен при Совете труда и обороны». И там говорится лишь о «задачах развертывания советской торговли и ликвидации остатков спекуляции со стороны частных торговцев». Это означало, что с выходом данного постановления всякая частная торговля стала называться «спекуляцией» со всеми вытекающими из этого последствиями. Отныне «частник», «нэпман» и «спекулянт» стали синонимами, т.е. оказались вне закона.
Продолжение читайте на сайте 8 апреля